Анатолий Григорьевич Вишневский: Харьков
Анатолий Григорьевич Вишневский:
Харьков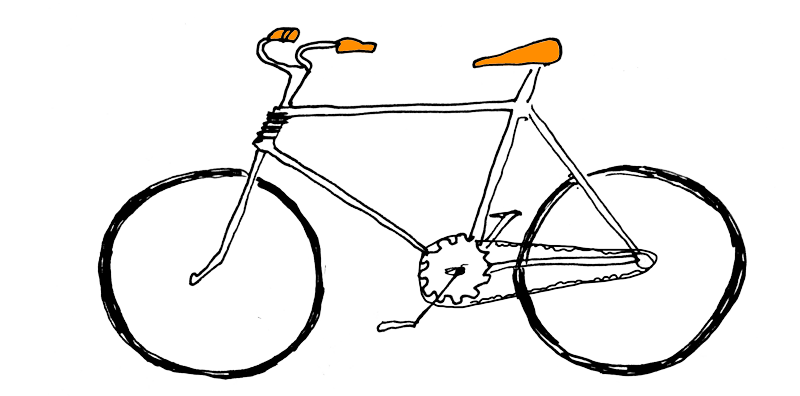
Харьков — мой родной город, я родился и вырос в Харькове, окончил Харьковский университет. Это уже много, но это еще не все. Получилось так, что на какое-то время Харьков стал, если можно так выразиться, ареной моей профессиональной деятельности, а затем и предметом научных исследований.
После окончания университета я работал в проектном институте Гипроград, где разрабатывались проекты планировки городов — не только Харькова, но я больше всего занимался Харьковом. Тогда, при Хрущеве, разворачивалось массовое жилищное строительство, я участвовал в составлении проектов планировки микрорайонов, крупных городских районов, а самое главное ‒ генерального плана Харькова. А позднее, когда поступил в аспирантуру Киевского института градостроительства, темой моей диссертации стала Харьковская агломерация. В те времена агломерациями у нас почти никто не занимался, моя работа была одной из первых в СССР на эту тему.
Харьков и сейчас — город немаловажный, но было время, когда он занимал одно из первых мест в иерархии городов СССР, да и предреволюционной России тоже. Тогда, в конце XIX — начале XX века, он был одним из центров развития русского капитализма на юге России, быстро растущим и становящимся все более заметным. Читая Чехова, все время натыкаешься на какого-нибудь персонажа, который поехал в Харьков или жил в Харькове. Он развивался именно как капиталистический город, не имея долгой истории, связывавшей его с прошлыми эпохами, и, возможно, поэтому был более подготовлен к переменам. Но, конечно, имело значение и его выгодное географическое положение между центральными районами империи и быстро развивавшимися Донбассом и Новороссией.
После революции — до 1934 года — Харьков был столицей Украины, но, даже и перестав ею быть, он долго еще сохранял значение третьего — после Москвы и Ленинграда — центра промышленности, науки, образования.
Харьков — один из главных оплотов индустриализации 30-х годов, город созданных тогда с нуля или почти с нуля огромных машиностроительных заводов: тракторный, турбогенераторный, паровозостроительный, а потом и танкостроительный (отсюда вышел прославленный Т-34, лучший танк военного времени) — это только малая часть длинного списка харьковских заводов. По структуре промышленности Харьков был в каком-то смысле аналогом Ленинграда, как промышленный центр он уступал по своему значению только Москве и Ленинграду.
Харьков — второй в СССР железнодорожный узел, своего рода дублер Москвы. Он соединял другие районы с югом страны, с Крымом, с Кавказом, Кубанью, все поезда шли туда через Харьков.
Харьков — научный центр мирового класса. Не так давно я прочел в одной статье, что Харьков 30-х годов был центром советского хай-тека, Кремниевой долиной того времени (об этом подробнее см. статью: Айбусинов С. Прометеи в оковах: как Харьков был столицей технологий // Forbs, № 3, март, 2014). Это соответствует действительности. В 1928 году по инициативе академика Иоффе в Харькове был создан Украинский физико-технический институт, УФТИ, где в 1932 году впервые в СССР расщепили атомное ядро. Здесь же была построена одна из первых советских радиолокационных установок. В УФТИ работали выдающиеся физики — Лев Шубников, будущий нобелевский лауреат Лев Ландау (он заведовал отделом теоретической физики) и другие. В конце 30-х годов цвет института подвергся репрессиям, многие были арестованы, пятерых, включая Шубникова, расстреляли. Уровень института, конечно, резко понизился, но он продолжал существовать, и воспоминания о легендарных временах не были полностью вытравлены, кое-что о них мы слышали. В начале 1950-х годов я знал сына одного из участников расщепления атомного ядра украинского академика Антона Вальтера — мы учились в одной школе, он был классом старше меня. Кстати, и сам Антон Карлович Вальтер пару раз приходил к нам в школу на встречи со старшеклассниками и рассказывал нам о физике — в те годы она была на вершине славы. Тогда же я приятельствовал с сыном еще одного украинского академика, Аликом Слуцкиным, — он учился в соседней школе. Под руководством его отца, тоже работавшего в УФТИ, создавалась первая советская радиолокационная установка для противовоздушной обороны.
Харьков и сейчас — город немаловажный, но было время, когда он занимал одно из первых мест в иерархии городов СССР, да и предреволюционной России тоже.
Еще когда я учился в университете, Харьков был третьим в СССР городом по числу студентов. По этому показателю он превосходил Киев, хотя тот уже давно был столицей Украины. Харьковский университет старше киевского, он был создан в 1806 году, а киевский только в 1833-м. В начале 30-х годов в Харькове было построено огромное по тем временам студенческое общежитие, которое так и называлось — «Гигант». Я помню его еще с довоенных времен, и его тогдашний конструктивистский облик (во время войны все было разрушено и восстановлено уже в другом виде) оказал большое влияние на мое детское воображение и последующее восприятие современной архитектуры. Я всегда с неприязнью смотрел на эклектический сталинский ампир, а уж о нынешней архитектурной безвкусице, то и дело возникающей на московских улицах, я и не говорю.
Харьков вообще был одним из пионеров советского конструктивизма. Фотографии ансамбля Госпрома (Дом государственной промышленности), замыкающего самую большую в Европе площадь, можно найти во множестве учебников архитектуры во всем мире. «В натуре» я помню этот ансамбль только послевоенным, когда от всех зданий, кроме центрального — самого Госпрома, остались одни остовы. Но даже и в таком виде ансамбль воспринимался как нечто целостное и гармоничное. На беду, после войны при восстановлении разрушенных зданий было сделано все, чтобы вытравить дух конструктивизма и заменить его социалистическим псевдоампиром. Во времена моей работы в Гипрограде, а потом в Горстройпроекте я знал архитектора Григория Александровича Яновицкого, автора проекта одного из зданий общего ансамбля площади (тогда она носила имя Дзержинского) — гостиницы «Интернационал». Этот проект был отмечен золотой медалью на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Гостиница тоже была разрушена. Помню, как мы с мальчишками лазили по ее развалинам. После восстановления гостиница (теперь она называлась «Харьков») приобрела банальную безликость, за которую ей не то что не присудили бы золотую медаль, но и не пустили бы и на порог какого-нибудь серьезного конкурса. Автором проекта восстановления был тот же Г.А. Яновицкий.
Сейчас к конструктивизму в целом и к тому же Госпрому относятся по-разному. Но у него, безусловно, были — думаю, и есть — свои фанаты. Говорят, что немцы, отступая из Харькова, заминировали и это здание и хотели его взорвать, чему якобы воспрепятствовал какой-то человек, который поплатился за это жизнью. Я знал одного архитектора, который настаивал — и обосновывал свою точку зрения — на глубинном родстве суперсовременной архитектуры Госпрома с архитектурой собора Святой Софии в Константинополе.
Рядом с Госпромом тогда же был построен большой жилой район, тоже конструктивистский, в духе баухауса. Его так и называли — район Госпрома, но там каждый дом имел еще и свое название: «Дом специалистов», «Красный промышленник» или, например, дом «Табачник».
Проектный институт, где я работал в конце 50-х — начале 60-х годов, тоже находился в здании Госпрома. Я сидел у окна, выходившего на площадь, и как-то наблюдал оттуда, как по площади перемещали макет памятника Ленину, сделанный в натуральную величину, чтобы выбрать правильное место для его сооружения. Место выбрали, памятник установили, а недавно он был разрушен. Когда я последний раз был в Харькове, это место было огорожено, постамент обтянут тканью и висела табличка: «Уважаемые харьковчане, памятник находится на реконструкции». Не думаю, впрочем, что он действительно будет восстановлен.
Конечно, в Харькове были и есть исторические районы, хотя и не очень давние, в основном застраивавшиеся в XIX — начале ХХ века, — некоторые кварталы в центре, Благовещенский собор и так далее. Но все это сильно перемешано с более поздними наслоениями, далеко не всегда радующими глаз.
Улица, на которой мы жили до войны, была спуском, ведущим из возвышенной центральной части к Куликовской улице и дальше — к реке Харьков. Там исторически сложились еврейские кварталы, я гулял там с няней и слышал, как пожилые люди разговаривают между собой на идише. Многим из них суждено было закончить жизнь на тракторном заводе: тракторный завод в Харькове в этом контексте — это то же самое, что Бабий Яр в Киеве. Если же спуститься из возвышенной центральной части в противоположную сторону — к реке Лопань, притоку Харькова, — то вы попадали на улицу Клочковскую — это был татарский район. Постепенно следы старых разделений размывались, но все-таки после войны что-то еще сохранялось. В студенческие годы я ходил в секцию фехтования общества «Спартак». Иногда мы занимались на стадионе «Спартака» — он находился на Клочковской, и даже частотность татарских фамилий в нашей команде говорила о сохранении следов былого расселения. У меня до сих пор хранится фотография моего тогдашнего приятеля Кости Джантимирова, делающего фехтовальный выпад, с его дарственной надписью. Иногда же тренировки проходили во Дворце спорта «Спартака», а он был ближе к бывшим еврейским кварталам и занимал здание бывшей хоральной синагоги на Пушкинской улице. Сейчас в синагоге снова синагога, а где тренируются спартаковцы, я не знаю.
Рассказывали — и, наверное, так оно и было, — что на экономическом факультете, на котором я учился, до войны было четыре отделения: русское, украинское, татарское и еврейское. Я этого уже не застал, после войны преподавание в университете переводили то на украинский, то опять на русский, при мне был только русский. Естественно, я знал и знаю украинский язык. Хотя Харьков был русскоязычным городом, но украинский язык преподавался в школе. Кстати, русскоязычное население Харькова часто имело и имеет украинские корни. Уже при переписи населения 1897 года украинский назвали родным языком только 25 процентов харьковчан. Но две трети жителей города были уроженцами украинских губерний, где большинство населения говорило по-украински. Просто в те времена, когда образование можно было получить только на русском языке, переезд в город часто требовал смены языка.
Харьков был одним из пионеров советского конструктивизма.
В молодости и даже в детстве я довольно часто ходил в театр. Главным харьковским театром был Театр украинской драмы, которым руководил тогда выдающийся украинский актер Марьян Крушельницкий. Это был украинский театр, но был еще Театр русской драмы. У него здание было поскромнее, там главным режиссером был Александр Крамов. Оба театра были весьма посещаемы, я бывал и там и там.
В связи с украинским театром вспоминается история, о которой я слышал от взрослых, когда еще был школьником. В стране раскручивалась борьба с «космополитизмом», а Крушельницкий как ни в чем не бывало ставил в репертуар пьесу Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», где сам играл главную роль. Во время одного из спектаклей из зала стали раздаваться антисемитские выкрики. Крушельницкий приказал опустить занавес, вышел на авансцену и сказал, что не будет продолжать спектакль, пока хулиганов не выведут из зала. И представьте себе, что хулиганов задержали, судили, посадили и написали об этом в газетах. Потому что это была несанкционированная пьяная самодеятельность.
Были в Харькове и Оперный театр, и Театр музыкальной комедии, но туда мы ходили реже. Когда стали постарше, старались не пропускать концерты приезжих знаменитостей. Сейчас, наверное, уже не так много людей, которые слушали живого Вертинского, а я был на его концерте. Помню, пользовался большим успехом украинский певец Борис Гмыря, у него был прекрасный бас. Во время оккупации он активно сотрудничал с немцами, пел даже в Берлине, но его простили, он стал народным артистом СССР, лауреатом Сталинской премии, был награжден орденом Ленина.
Вспоминается эпизод, свидетелем которого, а в какой-то мере и участником, был я сам. В филармонии выступал хор Свешникова. Он исполнял, конечно, в основном русские песни, но, если не ошибаюсь, в начале второго отделения концерта пели украинскую песню на знаменитые слова Тараса Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий». Как только раздались ее звуки, в одном из первых рядов вскочил человек, повернулся лицом к залу и стал размахивать руками, призывая всех встать. От неожиданности все стали подниматься, встал и я, всю песню до конца мы прослушали стоя. Через несколько номеров снова зазвучала украинская песня, и тот же человек снова попытался поднять зал, но я остался сидеть, как, впрочем, и большинство зала, хотя кое-кто все же поднялся.
Более позднее воспоминание связано с гастролями ансамбля «Мадригал» во главе с Андреем Волконским. Моя жена была знакома с ним еще во Франции, одно время он учился вместе с ее братом. Они давно не виделись, но, когда после концерта мы пришли за кулисы, он ее сразу узнал. Мы пригласили его в гости, он поехал с нами и остался у нас ночевать. На следующий день он сказал, что ему надоело жить в гостинице (у них было длительное гастрольное турне, они проехали уже несколько городов) и что он предпочитает снова заночевать у нас. Чтобы его забрать, я снова приехал на концерт, где он был занят только в первом отделении. И вот мы выходим из филармонии после антракта, а филармония была расположена на Сумской — это главная улица Харькова, в этом месте очень узкая. Выходим и почему-то видим оцепление солдат по обе стороны дороги и довольно много людей на тротуарах. Мы не успели еще ничего сообразить, как мимо нас проплыл лимузин с Леонидом Ильичом Брежневым. Стекло в машине было опущено, и он приветственно махал рукой с автоматизмом целлулоидной куклы. Оказывается, Брежнев приехал в Харьков для вручения ордена Ленина Тракторному заводу, и, по-видимому, протоколом были предусмотрены проезд на обратном пути по главной улице и приветствие ликующими горожанами. Мы вышли на крыльцо филармонии в самый подходящий момент.
Говоря о Харькове, нельзя не упомянуть его замечательный парк, который сейчас, кажется, гибнет под напором новой экономической реальности. Богатые люди часто бывают жадными и без жалости делят общее достояние. В мое время этот огромный парк (как и в Москве, он назывался ЦПКиО имени Горького) без всякой границы переходил в так называемый лесопарк — бесконечное пространство, по которому вы могли идти и идти и попадали в конце концов в настоящий лес. Я жил неподалеку, и мы мальчишками проводили там массу времени. В парке была детская площадка, летом там в какие-то дни устраивали «массовки» (так это называлось) для детей. Их часто проводили родители Людмилы Гурченко: отец играл на аккордеоне, а мать организовывала массовые действа, которые я уже не помню в чем заключались. Мне в таких массовках нравились только викторины, когда надо было разгадывать загадки или отвечать на всякие замысловатые вопросы. И родителей Люси, и саму Люсю я знал, потому что посещал так называемый дневной санаторий на улице Чайковского: там дети проводили целый день, их там кормили и развлекали, в том числе и с помощью упомянутых массовок. Моя мама, озабоченная моей беспризорностью, всегда старалась добыть для меня путевку в этот санаторий на один или два месячных срока, а Люсю туда пристраивали родители-массовики. Как-то, уже после успеха «Карнавальной ночи», мы встретились с ней на дне рождения у нашей общей знакомой и с ностальгией вспоминали о «санатории на Чайковской».
Помимо парка Горького в центре города еще с дореволюционных времен был и, к счастью, есть и сейчас большой сад имени Шевченко, игравший очень важную роль в нашей жизни «во дни веселий и желаний». Достопримечательность сада — знаменитый памятник Шевченко скульптора Манизера. Как я прочел в «Википедии», это лучший в мире памятник великому поэту. Любопытно, что он был открыт за неделю до моего рождения — 24 марта 1935 года. Когда Харьков был оккупирован, немцы его не тронули.
Перестав быть столицей Украины, Харьков постепенно начал терять свое значение, что стало особенно заметно после войны. Это и понятно, если учесть, насколько политика в советское время преобладала над экономикой, наукой и вообще над всем. С детских времен помню разговоры взрослых о том, что Харьков перевели в более низкую «категорию снабжения», высокая в нашем пролетарском государстве полагалась только столичным городам. Но, как ни странно, мне кажется, что Харьков не только проиграл, но и выиграл от этих перемен. Он стал гораздо менее чиновничьим городом, притягивавшим стаи всякого рода партийных карьеристов, и в гораздо большей степени сохранил свою интеллигентность, идущую от людей науки, образования, инженерной мысли.
Впрочем, это, конечно, не значит, что Харьков жил в какой-то благостной изоляции. Я учился в университете. Тогда он назывался университетом имени А.М. Горького, сейчас носит имя Василия Назаровича Каразина, своего основателя. Уже после того, как я окончил университет, он перекочевал в одно из упомянутых зданий ансамбля площади Дзержинского (теперь это площадь Свободы), восстановленное с потугами сделать его похожим на московские сталинские высотки. Заканчивали его уже после смерти Сталина, поэтому ему не достался первоначально предусмотренный шпиль, попавший в разряд архитектурных излишеств. Теперь именно здесь стоит памятник Каразину, который был открыт еще в 1907 году. В советское время его много раз переносили с места на место, но в конце концов вернули ко входу в университет — в его новое здание.
В свое время харьковские вузы дали двух нобелевских лауреатов — Илью Мечникова и Саймона Кузнеца. Второй, как известно, был экономистом. Но у меня было меньше шансов. Я стал студентом экономического факультета Харьковского университета спустя несколько месяцев после смерти Сталина, а экономика, как известно, относится к общественным наукам, за которыми всегда нужен глаз да глаз. Так что на нашем факультете все уже было зачищено, идеологически выверено. Об «экономических проблемах социализма» все уже было сказано исчерпывающим образом в незадолго до того появившемся сочинении Сталина, его надо было просто вызубрить, ни о какой науке не могло быть и речи. Что возможно, приходилось добирать за счет самообразования, собственно учеба на факультете мне ничего не дала. Но все-таки была университетская среда, были другие факультеты и тлели еще кое-какие традиции.
В свое время харьковские вузы дали двух нобелевских лауреатов — Илью Мечникова и Саймона Кузнеца.
Как ни странно, в Харькове в то время был все же по крайней мере один трезво мыслящий экономист — Евсей Григорьевич Либерман. Он заведовал кафедрой экономики и организации машиностроительного производства Харьковского инженерно-экономического института (который, между прочим, был преемником Харьковского коммерческого института, где в свое время учился Саймон Кузнец). Одно время он преподавал также на экономическом факультете университета, но к тому времени, когда я поступил на этот факультет, его там уже не было.
Тогда я слышал о нем как о человеке очень компетентном в своей области (экономике машиностроения), что для Харькова было немаловажно. Но примерно через 10 лет он неожиданно приобрел очень широкую всесоюзную и даже международную известность. Все началось с опубликованной им в «Правде» большой статьи «План, прибыль, премия», которую часто рассматривают как изложение основных идей, использованных впоследствии при проведении так называемой косыгинской экономической реформы. Я не был близко знаком с Либерманом, но некоторые мои приятели были его аспирантами, и я несколько раз пересекался с ним в неформальной обстановке — на фоне большинства привычных мне преподавателей экономфака он выглядел небожителем.
Больше всего мне запомнился его рассказ после возвращения из зарубежной поездки (большая редкость тогда) на организованной в университете встрече. В это время он был на пике славы, всех интересовали его реформаторские идеи, и он получил приглашение концерна FIAT посетить Турин и приглашение президента Египта Гамаля Абдель Насера приехать в Египет. Эта поездка состоялась, и теперь он о ней рассказывал. Тогда любая поездка ученого за рубеж была делом не совсем обычным, а эта выглядела совсем уж как нечто фантастическое — по крайней мере, в моих глазах; сам-то Либерман бывал в зарубежных командировках в 20-е годы. Он свободно говорил по-английски — я убедился в этом во время другой встречи, когда он пришел в гости к только что защитившемуся своему аспиранту и моему товарищу в сопровождении Виктора Перло — «известного американского экономиста», как называли его наши газеты. Не уверен, что он был большим экономистом, но разговаривать с ним можно было только по-английски, и, по большому счету, в нашей компании это было доступно только Либерману.
Программа его поездки в Италию оказалась даже более обширной, чем предполагало приглашение концерна FIAT. Дело в том, что жена Либермана, преподавательница Харьковской консерватории, была сестрой великого пианиста Владимира Горовица. А Горовиц, в свою очередь, был женат на дочери самого Артуро Тосканини. Все это, помноженное на его тогдашнюю внезапную известность и редкое появление советских людей за рубежом, привело к тому, что Либермана пригласили не только в Турин, но и в Милан, где устроили специальный прием в его честь в миланской опере «Ла Скала».
После окончания итальянской части своей поездки он направился в Египет, где предстояла встреча с Насером: египетского президента интересовали реформы в Советском Союзе и возможность использования их опыта. На эту встречу он приехал с нашим послом, но посла отсекли в приемной, к Насеру его пригласили одного. Беседа была очень долгой, и, как сказал ему потом дожидавшийся его посол, это была самая продолжительная встреча Насера с зарубежным экспертом за все время его пребывания на президентском посту. Вот вам и Харьков!
Тем не менее в целом экономистами Харьков едва ли мог гордиться. А вот физиками и математиками — еще мог. Кое-кого из них я знал. Вот, например, Марк Азбель. Мы познакомились еще детьми, в эвакуации в Новосибирске, — помню, где-то во дворе сидели на каких-то ступеньках и играли в шахматы. В Харьков возвращались одним эшелоном, жили неподалеку, учились в одной школе, но он был старше меня, а в школе разница в два-три класса — это много, там мы почти не общались. Потом уже познакомились почти заново. Он всегда был человеком с амбициями, оказался талантливым физиком, а это было время, когда физики, по словам поэта, были в почете. В 23 года защитил кандидатскую диссертацию, в 25 — докторскую. Все в той же «Википедии» я нашел слова, которые сказал на его защите Ландау: «У диссертанта есть только один недостаток, но от него он избавится без нашей помощи. Это — молодость». Потом он стал диссидентом, был связан с Сахаровым и ушел в отказ (впоследствии описал все это в книге Refusenik: Trapped in the Soviet Union). С 1977 года живет и работает в Израиле, профессор Тель-Авивского университета. Это уже человек примерно из той среды, с представителями которой я в университете общался.
Как-то в конце 80-х годов, уже живя в Москве, я был в Харькове на социологической конференции. Вечером пошел в гости к своим старым друзьям и взял с собой своего московского коллегу Геннадия Батыгина, сейчас уже, к сожалению, покойного. Он никак не ожидал, что наш вечер окажется таким блистательным, — он сказал мне это, когда мы возвращались в гостиницу. А мы были в гостях у Ренаты Мухи и Вадима Ткаченко: ее я тоже знал с университетских времен, а его даже раньше — мы учились в одной школе. Это та самая Рената Муха, автор замечательных детских стихов, предназначенных также для взрослых, о которой Виктор Шендерович как-то сказал, что она «остро умная (если хотите, можете писать это слово слитно, но не советую)». Кстати, она была не только «остро умная», что правда, но и очень хороша собой, «самая красивая девушка в университете» — слышал я в студенческие годы. В нее был влюблен Борис Чичибабин, она сохранила несколько посвященных ей пронзительных стихотворений. Вот начало одного из них:
Знать, для того и север был,
и одиночество, и ливни,
чтоб в этот мрак тебя внесли мне
пушистой веточкой вербы.
Рената Муха долгие годы жила все в том же построенном в 30-е годы районе Госпрома, на улице 8-го Съезда Советов. Здесь же в 50-е годы жил вернувшийся из лагеря Борис Чичибабин, а теперь бывшая улица 8-го Съезда Советов носит его имя.
Одним словом, в Харькове было с кем общаться.
Теперь, наверное, надо рассказать о том, как Харьков привел меня к моей нынешней профессии — демографии. Как я уже сказал, я участвовал в разработке градостроительных проектов для Харькова, отвечая за их экономическое обоснование. Когда речь шла об отдельных районах города, это была довольно рутинная работа. Но когда дело дошло до Генерального плана Харькова, пришлось решать более сложные вопросы. Генплан составлялся на 25 лет, и нужно было спрогнозировать рост населения города на 25 лет вперед. Общепринятая процедура заключалась в том, чтобы установить конечную цифру, исходя из общей установки тех лет, которая состояла в том, что крупные города не должны расти. На практике это приводило к тому, что проектировщики всегда занижали будущую численность населения, а когда приходило время подводить итоги, то оказывалось, что город вырос намного больше, чем закладывалось в проекте. Несмотря на постоянные ошибки, убеждение в том, что на этот раз — как мы скажем, так и будет, по-прежнему было очень широко распространено. Мне же казалось, что большой город — очень сложный организм, развитие которого зависит не только от наших субъективных желаний, и надо бы разобраться в тех объективных механизмах, которые заставляют крупные города расти вопреки постоянно принимавшимся постановлениям об ограничении их роста.
Москва открыла для меня много возможностей, но мало что добавила к тому внутреннему багажу, который я накопил в Харькове.
Я стал углубляться в суть вопроса, собирать разные данные о том, как и почему население Харькова росло в прошлом, и т.п. Во время работы над этим прогнозом я познакомился с Михаилом Вениаминовичем Курманом, сотрудником отдела статистики населения областного статистического управления, куда я приходил за нужными мне данными. С первого взгляда было видно, что этот немолодой человек в пиджаке и галстуке был белой вороной в царстве статистических дам и девиц, с которыми я обычно имел дело. Когда мы познакомились ближе, выяснилось, что он и в самом деле был человеком не совсем обычной судьбы: рядовым сотрудником облстатуправления он стал после 18 лет заключения (аббревиатура ГУЛАГ тогда еще не была на слуху), а до этого возглавлял отдел статистики естественного движения населения в ЦСУ СССР и оказался за решеткой после переписи 1937 года, объявленной вредительской. По образованию он был математиком, но по роду занятий до ареста считал себя демографом. Он очень быстро понял мои проблемы и даже в какой-то мере включился в разработку прогноза, а я узнал от него очень много о демографии, которой в университете нас никто не учил.
Забегая вперед, расскажу, чем закончилась история с прогнозом. 25 лет — немалый срок, но и он истек, нужно было разрабатывать и утверждать новый Генеральный план Харькова. Я к тому времени давно уже жил в Москве и нередко участвовал в качестве эксперта в рассмотрении разных проектов в Госплане СССР. Среди них бывали и генеральные планы крупных городов — Ташкента, Минска. Поступил на экспертизу и новый Генплан Харькова. Когда его авторы докладывали свой проект, выяснилось, что фактическая численность населения города совпала с прогнозной, что было большой редкостью и вызвало удивление экспертов и присутствовавших на заседании сотрудников Госплана, Госстроя, московского института градостроительства и пр. Кто-то спросил: как это у вас получилось? И тогда один из моих харьковских коллег, вместе со мной участвовавший в разработке предыдущего Генплана, сказал: «Это потому, что прогноз составлял Вишневский».
Но вернемся снова на 25 лет назад. Примерно в это время я поступил в аспирантуру в Киеве и там неожиданно встретил двух своих университетских сокурсников — Пискунова и Стешенко. Оказывается, они были аспирантами Института экономики Украинской академии наук и писали диссертации по демографии — сначала под руководством известного украинского демографа Михаила Васильевича Птухи, а после его смерти их согласился взять под свое крыло московский демограф Борис Цезаревич Урланис. В то же время они познакомились и стали тесно сотрудничать с жившим в Киеве Юрием Авксентьевичем Корчаком-Чепурковским, судьба которого напоминала судьбу Курмана: он был арестован в 1938 году и смог вернуться в Киев только через 20 лет. Несмотря на все жизненные перипетии, он оставался демографом очень высокого уровня.
Тогда, в Киеве, мы очень скоро поняли, что наши научные интересы чрезвычайно близки. Работая над диссертацией о городских агломерациях, я выполнил едва ли не первое в СССР эмпирическое исследование маятниковой миграции и выяснил, что в Харьков из ближних и дальних пригородов ежедневно приезжало на работу 125 тысяч человек. Это исследование, так же как и моя работа по прогнозированию населения Харькова, отвечало представлениям о том, чем должна была заниматься возрождавшаяся в те годы отечественная демография. Прошло еще какое-то время, все мы защитили наши диссертации, Валентина Стешенко стала заведующей отделом демографии, созданным в Институте экономики, и предложила мне стать его сотрудником. В Харькове был филиал Института экономики, и мы договорились с руководством института, что я буду по-прежнему жить в Харькове и формально числиться сотрудником этого филиала, по существу работая в находящемся в Киеве отделе демографии. Так официально началась моя карьера демографа.
Я уехал из Харькова в 1971 году, но все это время бываю там не реже раза в год, встречаюсь со своими друзьями, одноклассниками, хотя ряды их редеют. Бывают приятные сюрпризы. Не так давно один мой друг и одноклассник, с которым мы еще в школе начинали заниматься фехтованием, но который, в отличие от меня, не бросил это благородное занятие до сих пор, стал чемпионом мира по фехтованию в своей возрастной категории. Ему в это время было 79 лет, и он — не профессиональный спортсмен, а научный сотрудник харьковского Института монокристаллов.
Если сравнивать со временами моего детства и юности, город не изменился до неузнаваемости, многое сохранилось. Какие-то улицы выглядят неплохо, лучше, чем раньше, в изобилии появились рестораны и кафе, засверкали витрины. Но если копнуть глубже, то нынешний экономический и политический кризис дает о себе знать, да и до него все было не блестяще. Даже знаменитый Госпром обветшал, стоит облупленный. А кое-где время как будто остановилось — и притом давно. Год назад, в наш последний приезд в Харьков, мы с женой поехали посмотреть на дом, в котором когда-то жила их семья, — они получили квартиру в этом доме в 1956 или 1957 году. Кстати сказать, в этой квартире бывал Эдуард Лимонов — еще один выходец из Харькова, он ее довольно подробно описал в своей автобиографической повести. К своему удивлению, зайдя в подъезд, мы увидели на стене затянутый паутиной список жильцов, который не менялся со времени вселения в дом его первых обитателей, — там все еще указано имя моего тестя, хотя его уже больше 35 лет нет в живых, а в квартире живут совершенно другие люди.
Как видите, оснований для бравурного завершения моего повествования у меня, увы, нет. Но не хочется заканчивать и на грустной ноте. Я уже несколько десятилетий живу в Москве, побывал во многих мировых столицах — и никогда и нигде не чувствовал себя провинциалом. За это я благодарен Харькову. Москва открыла для меня много возможностей, но мало что добавила к тому внутреннему багажу, который я накопил в Харькове. Я люблю этот город, горжусь им и хочу надеяться, что он когда-нибудь еще вспомнит о своем былом взлете и повторит его.