Елена Наумовна Пенская: Томск
Елена Наумовна Пенская:
Томск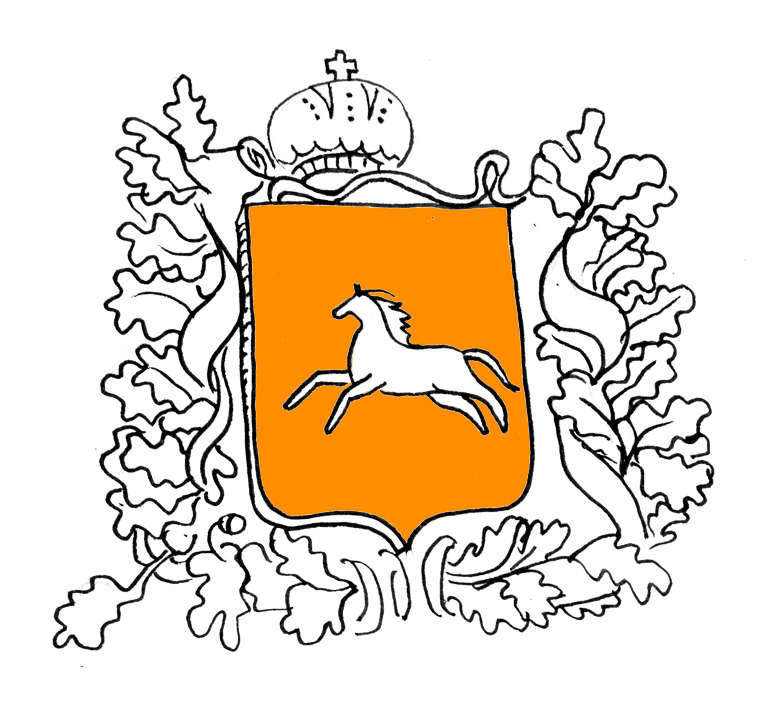
В Томском университете в самом начале 1980-х состоялось мое научное крещение. Там же подтвердились капитальные направления исследований, которыми предстояло заниматься на протяжении многих лет жизни. Вспоминая давнопрошедшее время, в который раз убеждаюсь в высокой значимости тогдашней семинарской жизни — пожалуй, не осмысленной во всей глубине до сих пор. Поездки на конференции обладали тогда особым смыслом. Сейчас это называется «академическая мобильность». А в те времена такого понятия еще не было, и в обиходе это академическое путешествие проходило под рубрикой «людей посмотреть, себя показать». К 1980-м уже давно, где-то с конца 1950-х, сложились традиции таких семинарских выездов. А мы, как наследники, смаковали анекдоты, легенды и предания, неизменно сопутствовавшие дорожной науке. Томск на моем профессиональном перепутье одним из первых стал «кругом свойств, занятий и знакомств» (Пастернак).
Что такое Томск? Большой транзитный путь, место ссылки, пункт, через который идет дорога в самые отдаленные медвежьи углы Сибири. Как и положено такому городу с пятерней веерного разбега улиц от центра к окраинам, он стоит на холмах и в низинах, открытый «семи ветрам». До сих пор сохранилось название одного из переулков – Перевалочный.
Томск всегда был «на краю» большого исторического подъема. Но выходило всякий раз одинаково: в самый решительный момент случался нечаянный зигзаг, толчок, взрыв – и удача обходила город стороной. Неодолимый закон странного бытия…
Вот он, Великий Сибирский Путь, Транссиб. В 1880-х годах его собирались проложить через Томск. В июле 1896 года загудели первые паровозы, но совсем не те, на которые рассчитывали, а другие. Они шли в тупик по железнодорожной ветке: основная магистраль прошла южнее, мимо Томска, что привело к большой обиде и почти катастрофическим последствиям для города. Из столицы огромной губернии он в одночасье стал провинциальным городком. Эта обида породила много легенд. Обвиняли во всем извозчиков: они-де подкупили проектировщиков, чтобы магистраль обогнула город. В этом анекдоте была доля истины. В извозе было занято около пяти тысяч лошадей. Крестьяне говорили: «Не пашня нас кормит, а большая дорога, мы с бичика живем». Конечно, пройди через город железная дорога – Томск лишился бы исконной прибыли, что убило бы гужевиков. Но оказаться на обочине тяжелее – и томичи жаловались Столыпину, посетившему город в 1910 году, на несправедливость своего капитального поражения.
Обидчики и обиженные... Истоки томских обид найти трудно. Еще труднее составить их реестр – он неизбежно окажется неполным.
Вот и Чехов в 1890 году побывал в Томске проездом на Сахалин. И сумел крепко отозваться о местных порядках, нравах и обычаях. Из чеховских писем о Томске: «Докладывают, что меня желает видеть помощник полицмейстера. Что такое? Тревога напрасная. Полицейский оказывается любителем литературы и даже писателем; пришел ко мне на поклонение. Поехал домой за своей драмой и, кажется, хочет меня угостить ею. Сейчас приедет и опять помешает писать…
Вернулся полицейский. Он драмы не читал, хотя и привез ее, но угостил рассказом. Недурно, но слишком местно. Показывал мне слиток золота. Попросил водки. Не помню ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки. Говорил, что у него завелась “Любвишка” – замужняя женщина; дал прочесть мне прошение на высочайшее имя насчет развода. Затем предложил мне съездить посмотреть томские дома терпимости.
Вернувшись из домов терпимости. Противно. Два часа ночи. Томск – город скучный, нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское. Замечателен сей город тем, что в нем мрут губернаторы».
Принимали Чехова, однако, с почтением, угощали и развлекали щедро. Не помогло. «Томск гроша медного не стоит... Скучнейший город... и люди здесь прескучнейшие... Грязь невылазная... на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад... Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь... Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна». Горожане тоже разочаровались. В газетах того времени писали: пить Антон Павлович отказался (сказал, что вредно), кататься на медведях не стал, цыган прогнал, девками побрезговал. Томичи свою обиду не забыли и припомнили почти век спустя.
В 2004 году на набережной реки Томь напротив ресторана «Славянский базар», где Чехов трапезничал, установили бронзовый двухметровый памятник: Чехов в пальто, примятой шляпе набекрень, перекошенных очках, босиком с непропорционально большими ногами. За спиной зонт. Зонт крали неоднократно вандалы. На постаменте написано: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего “Каштанку”».
Мнения о памятнике расходятся. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют немедленного сноса, для других это городская достопримечательность: горожане и гости Томска приходят сюда сфотографироваться, а студенты считают своим талисманом и прикладываются к скульптуре перед экзаменом, вследствие чего чеховский нос блестит на солнце.
Томск – пятнадцатый по счету сибирский острог, которому суждено было стать «Сибирскими Афинами», первым университетским городом азиатской части России.
Жалел Чехов, что первый сибирский университет открыли не в Красноярске, ибо «в сравнении перед ним Томск свинья в ермолке и моветон».
Тем не менее университет открыли в Томске.
Томск – пятнадцатый по счету сибирский острог, которому суждено было стать «Сибирскими Афинами», первым университетским городом азиатской части России. Первый. Таким был и останется во всех анналах. Все остальные – позже, в очередь. И эта «цифирь», расчеты, калькуляция всегда проступают в рассказах, слухах, мифах об университетской истории, изнанка которой одновременно и романтична, и жутковата. Климат суров. Природа не располагает к сантиментам. Но не чувствительны, а увлеченно-конкретны все, кто причастен к университетской жизни – сорок, двадцать пять лет назад и в настоящее время. Кажется, история университета интимно объединяет разные поколения. Угощают приезжих этим блюдом вкусно и щедро вместе с сибирскими домашними пельменями.
Говорят, довольно позднее рождение Томского университета – это результат нешуточной схватки «в верхах» в последние десятилетия позапрошлого века, когда еще в конце 1870-х министр народного образования И.Д. Делянов поборол сильного противника – К.П. Победоносцева, в ту пору советника Александра III. Еще говорят: сторонники первого сибирского с самого начала умели постоять за себя, выиграв конкуренцию с Омском, претендовавшим на первенство. Хотя ничего не получилось бы у тех, кто Томский университет задумал, если бы не было умных радетелей с головой, по-хорошему горячей, здравым смыслом, крепкой финансовой хваткой. Местные люди спорят с поэтическим вдохновением: какие чудеса главнее. Вот, например, первоначальный взнос в 1803 году Петра Григорьевича Демидова, того самого статского советника П.Г. Демидова из богатейшего рода русских промышленников, владельцев металлургических заводов на Урале, «ревнителя русского просвещения», собеседника и корреспондента Карла Линнея. Он пожертвовал 100 тысяч рублей. «Но пока приспеет время образования сих последних, — писал П.Г. Демидов во всеподданнейшем прошении, — прошу Ваше Императорское Величество, чтобы капитал, для них назначенный, положен был в государственное место, с тем, чтобы обращением своим возрастал в пользу тех университетов, представляя дальнейшее распоряжение оным благоразумию министра просвещения» (Историческая записка о возникновении в Сибири университета. Томск, 1888. 61 с.).
Деньги положили, и – чудо! – в государственном месте не разворовали, а приумножили. К нужному сроку, почти через восемьдесят лет, они приросли почти вдвое. Демидовский портрет в рост – главная университетская «икона».
Соизмеримый вклад внес купец и золотопромышленник З.М. Цибульский. К нему присоединились другие мощные вкладчики, московские и сибирские. Трапезниковы, Сабашниковы, Немчиновы, Суховы. Поэтому еще говорят: Томский университет – купеческий. Купцы университет любили и сделали его центром городской жизни. В университетской церкви отпевали, венчали, крестили. Весь круг житейский, цикл бытия начинался и заканчивался в храме наук.
Всякие – состоятельные и не очень – словно бы соревновались в помощи первому крупному учебному центру на далекой окраине России. Какое-то национальное вдохновение и стихийный энтузиазм охватили людей: беспрерывно шли посылки – деньги и ценности, уникальные коллекции и механизмы, хотя нигде не объявлялась подписка на такие пожертвования. Но, например, охотник-таксидермист, когда его попросили сделать экспонаты для университетского зоологического кабинета, отказался взять по тем временам крупные деньги: грех на таком деле наживаться. Сейчас на университетском фасаде главного здания по улице Ленина представлена вся история отечественной медицины в настенных барельефах: Салищев, Бурденко, Манассеин... Первые лица в хирургии, фармакологии, патологической анатомии. Медицинский факультет – это начало университета. Недаром в Университетской роще вокруг главного корпуса протекала небольшая речка Медичка (ударение то на первом слоге – от слова «медь», то на втором). От реки остался только мостик.
Научную жизнь в Томском университете не надо было придумывать и выращивать искусственно.
«Крестным отцом» университета считается Василий Флоринский, легенда Томска, университетский домовой. Врач и писатель, археолог, экстраординарный профессор по кафедре акушерства, один из основателей первой в России кафедры детских болезней при Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, знаток народной медицины... Внушителен перечень его заслуг и трудов. Именно Флоринский Томск отстоял, сделав медицину «царицей» всех университетских наук в Сибири. В конце 1892 года ходил по рукам сатирический рисунок «Отчего кухня дымит?». Карикатура изображала здание университета, из всех щелей, окон и дверей которого валил дым, а на верхушке трубы, плотно закрыв ее отверстие, сидел В.М. Флоринский – попечитель учебного округа и председатель Общества естествоиспытателей и врачей Сибири. Кстати, первая лекция, открывшая университетские занятия 13 сентября 1888 года, называлась просто: «Что такое жизнь?».
Научную жизнь в Томском университете не надо было придумывать и выращивать искусственно. Здесь сразу сложился плодородный грунт, а условия способствовали разработке «книжных месторождений». Личные собрания и коллекции книг легли в основу томской науки.
Рассказывают, что наследник колоссального состояния А.Г. Строганов разорился и, промотав за десятилетия разгульной жизни почти все дотла, решил было продать многотысячную майоратную библиотеку, доставшуюся от отца, графа Г.А. Строганова, собиравшуюся чуть ли не на протяжении столетия. За ненужностью владельцу она была упакована в ящики и помещена на хранение в кладовые Гостиного двора в Петербурге. А.Г. Строганов поставил цену – миллион. Шел торг. Антиквары сбрасывали, предлагая восемьсот, потом девятьсот тысяч, девятьсот пятьдесят. Он не сбавлял ни копейки.
И вот в этот момент, осенью 1875 года, профессор В.М. Флоринский, служивший в Министерстве народного просвещения, случайно встретился с А.Г. Строгановым и упросил его передать в дар будущему университету родовую библиотеку, находившуюся «не у дел».
У него не было и десяти тысяч. Ему разрешили осмотреть эти сокровища – собрание инкунабул. После осмотра он спросил владельца, не согласится ли тот уступить хотя бы два десятка отобранных книг и назначить подходящую цену.
При этом Флоринский напомнил, что знаменитый род Строгановых 300 лет назад принимал деятельное участие в снабжении Ермаковых дружин материальными средствами в их сибирских походах, поэтому было бы логично, если бы ныне живущие потомки помогли России «покорить Сибирь духовно через книгу». Такая постановка вопроса графу польстила, и он не замедлил дать согласие на передачу библиотеки в дар будущему университету. Зимой 1879 года ящики с книгами Строгановской библиотеки были переправлены из кладовых Гостиного двора в Министерство народного просвещения для отправки их в Сибирь и полгода пролежали запакованные. Сибирский железнодорожный путь еще не существовал.
В мороз по санному пути на лошадях везли библиотеку – из Центральной России в Томск. Рядом с санями шел Флоринский, по-извозчичьи похлопывая себя рукавицами на морозе. Именно не ехал, а шел рядом с розвальнями, чтобы не повредить в дороге ценнейшие коробки и ящики. Итак, первый книжный дар насчитывал 7523 названия книг в 22 626 томах.
В книжном собрании Строгановых были представлены почти все наиболее значительные произведения по гуманитарным и, частично, естественным наукам, вышедшие в Европе за полтора века на французском, итальянском и английском языках. Но особую ценность коллекции придавали периодические издания времени Великой французской революции конца XVIII века, а также богатый подбор редких изданий мировой классики, художественных альбомов и гравюр. Большинство книг из Строгановской библиотеки – в роскошных переплетах с золотыми обрезами и художественным тиснением. Среди драгоценностей – первое издание книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790), принадлежавшее А.С. Пушкину. В своих воспоминаниях Флоринский об этой книге напишет: «На днях в одном из ящиков нашел больше десяти рукописей на латинском и французском языках, написанных на пергаменте, с художественными виньетками и заставками. Между ними оказалось также одно замечательное русское издание – это Радищева “Путешествие из Петербурга в Москву”. Этот экземпляр, как выяснилось, принадлежал А.С. Пушкину. Внутри передней корочки переплета его автограф: “Экземпляр этот куплен в тайной канцелярии, заплачено 200 рублей. А. Пушкин”. На полях книги более резкие места отмечены красным карандашом, вероятно, при просмотре этого экземпляра следователем при производстве дела по поводу издания этой книги (книжка в красном сафьяновом переплете). Все рукописи, найденные при разборе книг, мною лично переписаны, переложены в особый сундук, заперты, запечатаны моею и комитетскою печатью и сданы на хранение в Томское губернское казначейство до открытия Сибирского университета (позднее, в начале 1889 г. все они... были отправлены в Имперскую публичную библиотеку при особом списке через канцелярию попечительства Западно-Сибирского учебного округа)» (об этом: Русская старина. 1906. № 5. С. 307-308; Отчет имп. публ. библиотеки за 1889 г. СПб., 1893. С. 8-20).
В конце 1870-х словно бы открылись шлюзы, и многие десятилетия бесперебойно шел поток пожертвований на библиотеку. Так, осенью 1878 года известный исследователь сибирского Севера, иркутский золотопромышленник и меценат А.М. Сибиряков приобрел для университета у наследников поэта В.А. Жуковского 4674 тома его личной библиотеки. Библиотека эта содержала многие прижизненные издания писателей и поэтов пушкинской поры, книги по педагогике и литературоведению на немецком, французском и английском языках, конспекты для занятий с наследником престола Александром Николаевичем, будущим царем Александром II. Главная ценность этой библиотеки в том, что во многих томах есть карандашные пометки, рисунки, подстрочные переводы, обширные записи на полях, сделанные самим Жуковским, а также автографы его современников (подробно о библиотеке В.А. Жуковского см. предисловие к кн.: Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. I. Томск, 1978).
Тогда же главный директор и управляющий Голицынскими больницами в Москве князь С.М. Голицын для Томского университета отобрал и подарил ему дублеты из богатейшей библиотеки своего музея – около 5 тысяч томов.
В начале 1880 года на средства, выделенные Томской городской думой, была куплена личная библиотека А.В. Никитенко, критика, историка литературы, автора дневников и главного цензора России в 1860-1865 годах. В составе этой библиотеки имелись почти все прижизненные издания произведений Пушкина, Гоголя, Герцена, Чернышевского и других литераторов 1830-1860-х годов, нередко с дарственными надписями, маргиналиями, автографами. Что такое библиотека? По мысли Никитенко, это бастион, который спасает от ветра, зыбучих песков стремительно уходящего времени и скоротечного распада культуры: «...Нет ни одной вчерашней мысли, как бы она ни была основательна, которая бы уже сегодня не оказалась старой. Жар, с которым вчера принимали такую-то меру, сегодня уже остыл. Каждый день что-нибудь начинается, а на другой – только что начатое бросается недоконченным, и не потому, чтобы взамен находилось лучшее, а в силу какого-то неудержимого, слепого стремления вперед – но куда? Какая-то невидимая сила, как бес, гонит нас, кружит, выбрасывает из колеи. Всякий тянет в свою сторону, бьется не о том, чтобы было удобнее и лучше, а о том, чтобы вещи существовали как ему хочется. У нас столько же партий, сколько самолюбий… Если же кому-нибудь удастся выразить и пустить в ход здравую, хорошую мысль, он уже земли под собой не слышит. Он важничает, зазнается, и то, что было у него хорошего, испаряется в чаду претензий и высокомерия. Ему уже непременно хочется, чтобы в мире существовала одна его мысль, и он кстати и некстати всюду тычет ее» (см.: Никитенко А.В. Записки и дневник (в 3 книгах). М.: Захаров, 2005. С. 543).
Когда в 1982 году я, студентка 4-го курса филфака МГУ, приехала на конференцию в Томск в составе семинара профессора Анны Ивановны Журавлевой, нам показали в первый день все реликвии сразу. Редкие примечательности города и университета. После чего мы забыли про бессонную ночь, шестичасовое ожидание в аэропорту – в начале 1980-х были перебои с горючим, и если бы не отец моей подруги, работник Министерства гражданской авиации, сидели бы еще не одни сутки. Забыли неготовый доклад, четырехчасовую разницу во времени, все привычные предконференционные волнения. Тревога и усталость сменились лихорадочным возбуждением.
Томск весь в перепадах. Горизонтали и вертикали. Горки, провалы... Катакомбы, не изученные до сих пор. Запретная и запрещенная жизнь.
Томск встретил нас прозрачной изморозью. Почему-то сразу вспомнились «Посмертные записки старца Федора Кузмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири близ Томска в заимке купца Хромова» Льва Толстого. Легенда о Федоре Кузмиче – старце, который считался императором Александром I, будто бы имитировавшим свою смерть, чтобы, приняв вымышленное имя, странствовать по России и замаливать грех отцеубийства.
«Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), видавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своей величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открывал своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: “Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля”».
Эта версия до сих пор занимает умы. Эксперты-графологи доказали идентичность почерков императора и старца, а Томская епархия не возражает против идентификации останков святого праведного Феодора Томского.
Густой, пахучий бор, как в те самые времена 120 лет назад: вековые лиственницы с пожелтевшей, осыпающейся к зиме хвоей, синие ели и сосны обступили университетское здание – белокаменный, многооконный массив. По ту сторону Томи сразу за университетом – дремучий лес, тайга, тундра.
Забыв обо всем, бросив вещи в студенческом общежитии, вся наша компания вместе с хозяевами-проводниками и Всеволодом Некрасовым, поэтом, мужем А.И. Журавлевой, двинулась к реке, слушая объяснения наших местных экскурсоводов и время от времени вежливо прикладываясь к биноклю Вс. Некрасова. Никто, как он, так не умел смотреть «перспективу», «даль» и «горизонт».
Про Томск Вс. Некрасов потом вспоминал и когда ездили вместе в Ригу, в Рижский университет, на пушкинскую конференцию. Но это позднее. Года через два. Он многое, и Ригу в том числе, долго видел как бы «через Томск», сквозь Томск узнавал.
«...Ничего нигде подобного прямо такой прямо такой прямо дом самый самый городской самый город дорогостоящий собор домский и потом дом с котом / ему бы быть в томске нос к носу окно с окном в смысле / как там у нас дом с домом вопрос собственно просто стоит соседство соседство тесно оно но и уютно то есть совсем просто – город городить...»
Хоть и современный, а все равно сохранивший местами свою бревенчатую купеческую тишину, Томск беспорядочно разместился по правому берегу реки Томи и по обоим берегам узенькой речки Ушайки, когда-то зловонной, а сейчас обустроенной, но почти пересохшей.
В 1930-х больной ссыльный поэт Николай Клюев просил здесь милостыню.
Прилетели мы под выходные; у крутого спуска к Томи развернулся базар-рынок – и в глухие социалистические времена он представлял, как и раньше, съезд всех народов и народностей, всех сословий и социальных групп, населявших Томск. Выставка достижений народного хозяйства. Только с сибирским размахом. Русские и украинцы, поляки и белорусы, немцы и латыши... Старое и новомодное – все вместе, рядом. Сибирские яства, шипящий лимонад, напомнивший Вс. Некрасову московскую газировку военных времен, кримплен, болонья, нейлон вперемешку с сибирскими деревянными сувенирами, кедровым орехом и сушеной кровяной клюквой. Память места сильна, и по-прежнему в закутке базара можно было полистать букинистику, как и раньше когда-то в лучшем книжном магазине Петра Ивановича Макушина – одного из просветителей Сибири. Базар в Томске был и оставался как бы вторым общественным центром после университета.
Резкую континентальность томского климата мы почувствовали не столько в погоде и природе, сколько в каком-то особом историческом межсезонье, спрессованных пластах времени, на наших глазах таявших и замерзавших снова.
Хозяева, замечательные филологи Ольга Лебедева и Александр Янушкевич, для нас, гостей, «открывали» Томск большими дозами, погружая в томскую «воронку событий», нынешних и давних.
Вот она, Воскресенская горка, откуда осенью 1791 года ссыльный А.Н. Радищев, «бунтовщик хуже Пугачева», со двора казенного дома – резиденции градоначальника-вольнодумца, бригадира русской службы Тома (Фомы Фомича) де Вильнёва, запускал воздушный шар – крамольный монгольфьер, один из символов «умственной заразы» французских республиканцев, запрещенный Екатериной II. И после этого совсем реально воспринимается устойчивость радищевской темы воздушного шара-монгольфьера. Он помнит об этом в Илимске, когда пишет трактат «О человеке, его смертности и бессмертии»; в ссылке в Немцове упомянет о нем в «Памятнике дактилохореическому витязю» (см. подробнее: Лебедева О.Б. Монгольфьеров шар // Сибирская старина: краевед. альм. 2001. № 17. С. 6-9).
И наконец, в своем итоговом стихотворении «Осьмнадцатое столетие» вернется к этому случаю:
Мощно, велико ты было, столетье! <...>
Даже летучи пары ты заключило в ярем;
Молнью небесну сманило во узы железны на землю
И на воздушных крылах смертных на небо взнесло.
В день нашего приезда в томском небе летали совсем не монгольфьеровы шары, а вполне обыкновенные разноцветные воздушные в честь советской милиции и чьей-то свадьбы. Либертинаж сбылся.
Томск весь в перепадах. Горизонтали и вертикали. Горки, провалы. Катакомбы, подземные переходы, куда старинные купцы в случае чего прятали свое добро, а разбойники уходили к реке. Катакомбы, где время от времени находили тайники со старопечатными книгами. Катакомбы, не изученные до сих пор. Запретная и запрещенная жизнь.
Томская гуманитарная наука складывалась органично и мощно не в последнюю очередь благодаря тому, что в университете были свои «месторождения», для гуманитариев первостепенные. Библиотеки. Документы. Все эти богатства ждали разработки.
Еще один адрес. Улица Рузского, 9. До войны Колпашевский переулок. Деревянный двухэтажный дом сохранился. Нам – шепотом: Шпет. В 1980-х еще нельзя громко. Густав Шпет, один из самых ярких интеллектуалов XX века, друг и собеседник Андрея Белого, Качалова, Пильняка, деятельный участник театральных постановок Мейерхольда, Таирова, Станиславского, блистательный переводчик и составитель фундаментальных комментариев к Диккенсу, Теккерею, десяти трагедиям Шекспира… В 1935 году по сфабрикованному делу о создании фашистской организации и в связи с арестом людей с немецкими фамилиями (предлог – участие в составлении немецко-русского словаря под редакцией Е. Мейер) был арестован и сослан в Енисейск, а оттуда переведен в Томск, где оказался 2 декабря 1935 года после недельного переезда на лошадях в пятидесятиградусный мороз. В 1917 году Шпету предлагали возглавить в Томском университете кафедру философии и логики, но он отказался, а теперь в Томске работы не было. По договорам со столичными издательствами он занимался переводами: в двухтомной переписке Гете и Шиллера, выпущенной в 1988 году издательством «Искусство» в переводе И.Е. Бабанова, имя Шпета не упоминается. Перевод и подробные примечания к «Феноменологии духа», одному из самых трудных сочинений Гегеля, вышли только в 1959 году, почти через четверть века после гибели Шпета, и быстро стали библиографической редкостью. «Три разговора между Гиласом и Филонусом» Джорджа Беркли выпущены в 1937 году без указания имени переводчика.
«Филонус. Я утверждаю, что умеренная теплота – такое же большое удовольствие, как ее высокая степень – неудовольствие. Но если ты согласен, что она – хотя бы малое удовольствие, это оправдывает мое заключение.
Гилас. Я скорее назвал бы это безболезненностью. По-видимому, это не что иное, как отсутствие и неудовольствия, и удовольствия. А что такое качество или состояние может быть свойственно немыслящей субстанции, я надеюсь, ты не будешь отрицать.
Филонус. Если ты решил настаивать на том, что мягкая степень теплоты не есть удовольствие, то я не знаю, как иначе убедить тебя, – разве только сославшись на твое собственное чувство. А что ты думаешь о холоде?
Гилас. То же, что и о тепле. Сильная степень холода – страдание, ибо чувствовать очень большой холод – значит воспринимать большую неприятность: поэтому он не может существовать вне ума; но меньшая степень холода может, так же точно как и меньшая степень тепла.
<...>
Филонус. Может быть верным какое-нибудь учение, которое необходимо приводит нас к нелепости?
Гилас. Без сомнения, нет».
В тот первый наш приезд в Томск невозможно было поверить, что через шесть-семь лет все пойдет по-другому – на доме в Колпашевском переулке – улице Рузского, 9, установят первую в СССР мемориальную доску репрессированному. Ничего, что ее потом в 2002 году украдут. Заменят новой и негромко – сначала почти тайно – начнут собирать вещи. Позже они станут основой томских «местных университетов» – первого литературного музея, куда попала коллекция Густава Шпета: стереоскоп, можно сказать, 3D-изображение начала прошлого века; дорожный сундук, тяжелая чернильница, коробка для табака, которую ему прислал в Сибирь Юргис Балтрушайтис; печатная машинка, сделанная на немецкой фабрике, но с русской надписью «Ундервудъ». Наперсток его матери. Она зарабатывала шитьем, чтобы вырастить сына, и после ее смерти Густав поставил этот наперсток на письменный стол – чтобы помнить, на чьи деньги он выращен. И еще шапка. Та самая. Шпет и его родные заранее условились: телеграмма с просьбой выслать шапку – знак того, что он арестован. Когда за ним пришли, он совершенно спокойно собрался и вышел вслед за конвоем.
В первый приезд нас без остатка затянуло в воронку томского путешествия, центром которого оставался университет, а вход был «филологический»
В 2004 году в «Новом мире» опубликованы томские письма Шпета родным в Москву. Последние перед гибелью. Невероятный, пронзительный опыт.
«…а пока – просто не допускает климат, который хотел бы сыграть под «психа»… но ведет свою роль плохо: переходы от истерического ветра к депрессивному холоду и к накаливанию времянки – не мотивированы и не художественно внезапны; а чувство ритма – такое же, как у молодой коровы. 2-го мая я выходил без калош; по солнечной стороне было сухо (хотя под окнами у нас, – север, как ты помнишь, – груда снегу и льду, так что из-под полу дует холодом), а вчера – хлопьями снег, к утру все покрывший ватным одеялом в вершок толщиною; сегодня – течь и невылазная грязь! Томь еще не тронулась…
…Наша грандиознновость: наконец приличная погода; река почти прошла, и есть надежда, что погода установится. Поэтому выставили одно окно; со свежим воздухом сразу другое самочувствие (снегу осталось под окном – горсточка, и воздух идет теплый). Радостно вливаются звуки жизни: чириканье воробьев, петухи, лай собак, даже мычанье коровы, детские голоса, блеяние козы... К сожалению, ко всему присоединяются, хотя и очень издалека идущие, – зловещее завывание радио-сифилитика да тупое пыхтение самолета.
…тупик Колпашевского, куда мы заходили в один из первых дней и откуда не было никакого хода. Теперь там ничего не узнать, как и везде! – повылезали из-под снега невероятности! спуск наш… идет чудесными зелеными террасами, – великолепная горка, зеленая, а с нее видна разлившаяся Ушу-а-й-ка: пространства, где мы бродили в снегу – огромное озеро воды, часть к мосту вылезает огромным полуостровом, заросшим тополями, от набухающих почек все зеленоватое и обещает превратиться в сплошную рощу; вообще зелень понемногу выпирает и заменяет белизну (грязный снег лежит только в очень затененных северных ямах)…»
Переезд в Томск был на самом деле трагической ошибкой. 27 октября 1937 года Шпета снова арестовали по сфабрикованному делу о «кадетско-монархической повстан-ческой» организации и на рассвете 16 ноября 1937 года вместе с другими заключенными расстреляли у обрыва.
Близкие еще три года отправляли посылки и денежные переводы, не получая ответа. А народный артист Василий Качалов, близкий друг и сосед по дому в Москве, не раз обращался к Сталину с просьбой пересмотреть «дело Шпета», арест которого нанес большой урон социалистической культуре. И ведь до начала перестройки в 1956-1989 годах бытовала официальная версия смерти: 1940 год. Воспаление легких.
Невероятно. Но этот пепел мученичества, сгустки пепла не остывают и продолжают тлеть в томской повседневности.
Шпет и Николай Эрдман, остроумцы. Отдаленно знакомые в Москве, они близко сошлись в Томске. Эрдман обещал по окончании своего срока уступить свое место завлита в театре. Напрасно. Не довелось.
В те годы Эрдман – сердцеед, неотразимо обаятельный драматург, его комедии «Мандат» и «Самоубийца» триумфально прошли на сцене театра Мейерхольда. О сотрудничестве с ним мечтает Художественный театр, Станиславский хлопочет о разрешении поставить у себя в театре «Самоубийцу» перед Сталиным.
В 1933-м Эрдмана арестовали в Гаграх во время съемок фильма «Веселые ребята» (как одного из авторов басен, прочитанных В.И. Качаловым в Кремле) и приговорили к ссылке в Енисейск на три года. В Томске он оказался осенью 1935-го, благодаря хлопотам Ангелины Степановой, очаровательной молодой актрисы – а позднее «великой мхатовки» – из обласканного властями театра, любимицы Станиславского и Немировича-Данченко. Страстный роман Эрдмана и Степановой продолжался семь лет, их переписка той поры собрана и опубликована лишь в 1995 году.
Она тайно навещала Эрдмана в ссылке. А он делился своими дорожными впечатлениями.
«Кажется, моя первая ночь в Томске продолжалась около двух суток. Должен признаться, я здорово устал: едучи из Енисейска в Красноярск и из Красноярска в Томск, я все время сидел; сидя в Красноярске, я все время ходил, а в промежутках между сидением и хождением или стоял, или таскал чемоданы. Можешь себе представить, с каким наслаждением я влез в ванну, а потом в постель…»
«За границей показывали фильм, в котором проститутка, получившая в наследство миллион, смогла осуществить мечту своей жизни. Она купила самую дорогую кровать и, вытянувшись под одеялом, сказала: «Наконец одна» – и уснула. В Томске я понял эту проститутку...»
«Я мало еще видел город, но кажется, это «очаровательный старик», который созвал к себе молодежь всей Сибири».
«Томск мне нравится. Центральная улица похожа на школьный коридор во время большой перемены. Помимо учебных заведений в городе есть цирк, кино и оперетта…»
«В здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую – меню большое, а получить можно одни пельмени и Шолохова…»
Шпет и Эрдман общались несколько месяцев. Но как по-разному оба устроились и жили.
«Все, занятые в работе над спектаклем, получили благодарности от директора. Директор получил благодарность от партийных организаций города. Некоторые актеры получили прибавку к зарплате. Самборская – слезы и овации публики. Шевелев – прекрасную рецензию. А я – бутылку вина».
Это одно из писем Николая Эрдмана матери после успешной постановки пьесы Горького «Мать» в Томском драмтеатре (теперь ТЮЗ).
Эрдман был в центре внимания, к нему обращались, советовались, сверялись во всем – в поведении и моде. «…Костюм выглядит отлично и что карман не на той стороне, так я буду всех убеждать, что это последний крик моды. И весь Томск будет ходить с карманами на другой стороне».
В Томске на волне начинавшейся общей перестроечной эйфории всерьез вернулись к Эрдману в конце 1980-х, поставив «Самоубийцу». Начали изучать в университете. Профессор филфака Николай Никитич Киселёв – единственный в СССР, кто на свой страх и риск во времена застоя писал об Эрдмане, что было в ту пору большой исследовательской смелостью. Свою диссертацию Николай Никитич защитил с большим трудом со второго раза, а его статью о «Самоубийце» изъяли по цензурным соображениям. Ученица профессора Киселёва, Валентина Головчинер, вспоминала, как преподаватели на кафедре собирали деньги, чтобы сохранить хотя бы несколько номеров журнала с его статьей.
В первый приезд нас без остатка затянуло в воронку томского путешествия, центром которого оставался университет, а вход был «филологический». Отсюда и первый опыт, впечатления, ракурс. Захватила какая-то особая, ни на что не похожая природная яркость людей и сила их человеческих – не только научных – талантов. О каждом нужно писать отдельный очерк. Конечно, в первый раз удалось только попробовать, а разбирались и привязывались позднее, долгие годы.
К тому времени в томской филологии сложилась уже своя «система мер». Ядро в ней – сильная кафедра, которую возглавляла Фаина Зиновьевна Канунова – «императрица», как называли ее младшие коллеги, властно опекаемые ею и наставляемые на путь. Благодаря строгой, иногда капризной, но всегда трепетной заботе Кануновой, на кафедре и устраивались матримониальные дела, и отчетливое направление получила научная жизнь.
Как говорилось выше, томскую гуманитарную науку не надо было придумывать. Она складывалась органично и мощно не в последнюю очередь благодаря тому, что в университете были свои «месторождения», для гуманитариев первостепенные. Библиотеки. Документы. Все эти богатства ждали разработки.
В Томске с незапамятных времен было два Жуковских. Оба Василия. Один Василий – портной, у которого одевалось полгорода до войны. Другой Василий – поэт. Василий второй никогда в Томске не был. Зато его библиотеку приобрели у сына. И как раз ко времени нашего первого приезда в Томск ее выловили в книжном море университета, систематизировали, описали… и не поверили самим себе: столько сокровищ сразу не бывает. Стихи, заметки, планы, записанные Жуковским в книгах или вложенные в них, сотни отметок и маргиналий на полях… Кафедра стала бригадой по изучению этих уникальных материалов. Так и сложился редкий коллектив: Ф.З. Канунова, Э.М. Жилякова, Н.Б. Реморова, Н.Е. Разумова, И.А. Айзикова, А.С. Янушкевич и его супруга О.Б. Лебедева, их коллеги, – стали двигаться в ширь и глубь, распределив между собой биографические территории и захватывая огромные историко-литературные и культурные массивы. Началось многолетнее научное путешествие, которое не остановилось до сих пор. Фундаментальный трехтомник «Библиотека В.А. Жуковского в Томске» (1978-1988) стал путеводителем в сложных лабиринтах русской и европейской культуры Нового времени.
Томский genius loci продолжает жить.
Для поколения тех, кто вступал в науку в поздние 1980-е, Александр Сергеевич Янушкевич во многом стал «крестным отцом», связав все томские «тени», «фамильные портреты», метафоры в живую реальность. Потомок ссыльных поляков, блистательный рассказчик, он заражал своим артистизмом. Никто не мог так пронзительно спеть романс на закрытии конференции в Горно-Алтайске, найти гриб в самом безнадежном месте, откуда все уходили разочарованно с пустыми руками, азартно болеть за футбольную команду «Томь», легко взобраться в Казбеги на высоту 2200 метров крутого обрыва над поселком Степанцминда и узкой долиной Терека к храму Святой Троицы в Гергети, куда совершили в 2015 году восхождение исследователи из Университета Гумбольдта, ВШЭ, Томского, Тбилисского университетов – группа участников конференции Imperial Romanticism – Romanticism of the Empire. Затеянный им проект – издание полного собрания сочинений Жуковского, двадцатитомник, – был дерзким безумием, как он сам говорил. Тем не менее с самого начала 1990-х Томск стал фабрикой мысли, интеллектуальным и научным центром исследований наследия В.А. Жуковского и истории идей. Казалось, здесь открылся родник. Увлекательные сюжеты архивных находок (Александр Сергеевич щедро слал коллегам обнаруженные им тексты документов и писем), поэтика датировок и атрибуций… Энергия и пульс живой деятельности захватывали и вовлекали в водоворот. Захлебывались. Не хватало рук, а проекты достались бы не одной научной группе. Жуковский был точкой отсчета, но какая широкая панорама открывалась отсюда. Буквально: «видно во все стороны света». Безостановочные наброски, планы…
А.С. Янушкевич несколько лет назад сжег на даче свой дневник. Скупые сохранившиеся письма (они опубликованы Сергеем Пановым в журнале «Литературный факт», 2016, № 1-2) позволяют увидеть рабочее закулисье, где постоянное напряжение, отсутствие выходных и отпусков всегда сопровождалось игрой и шуткой: «…Эпистолярная сухотка, о которой так любил писать столь писучий Жуковский, меня уж точно одолела. Правда, и дел по горло. После возвращения из Питера прошел уже месяц, а я еще все не отчитался за командировку: видимо, посадят в тюрьму (если в одиночку и с библиотекой, то согласен). В Петербурге поработал очень продуктивно: нашел еще около 50 новых писем и завершил почти всю работу с рукописями «Одиссеи». Сейчас формирую шесть эпистолярных томов и к сегодняшнему дню подошел к 1848 году (последний 20-й том). В основном тексты или набираю вручную, или привожу в порядок сканированные. Ваши (Вяземские), Э.М. Жиляковой (елагинские), В.С. Киселева (великому князю) очень облегчили адскую работу. Еще помог немецкий славист Хольгер Зигель (автор монографии на немецком языке об А.И. Тургеневе), приславший переписку Ж. и Тургенева. Располагая все в хронологическом порядке, я постоянно испытываю чувство благодарности судьбе за встречу с Жуковским и за возможность прожить с ним вместе его духовную Одиссею. Уж точно – “душа распространяется”. Нужно сказать, что масштаб его эпистолярии впечатляет во всех отношениях. Успеть бы доделать. Главное – все собрать и выстроить. Комментарий могут сделать и другие, если не успею сам…»
Александр Сергеевич Янушкевич, «Кот Васька», как он сам себя называл, был как бы полноправным представителем Жуковского здесь перед нами. Даже внешне стал чем-то похож на него. Сроднился. «Правопреемник», он отвечал за общее состояние дел, и мотор «жуковианы», где велись картотеки, составлялись указатели публикаций и архивных документов, реестры писем, набирал обороты. Кафедра Янушкевича в Томском университете поистине стала магнитом для итальянцев, немцев, французов…. На наших глазах воплощалась идея европейского академического содружества.
26 ноября 2016 года. Суббота. Обычное сероватое утро выходного дня. В Москве, на Басманной, где расположились гуманитарные факультеты ВШЭ, проходит очередная конференция. Заседание ведет Роман Лейбов и вдруг начинает словами: «Прошу всех встать. Почтим память Александра Сергеевича Янушкевича». Не поверили. Казалось: ошибка.
В 10:40 произошла трагедия около моста через Обь в Шегарском районе на трассе Томск – Колпашево. Все случилось за несколько минут: лобовое столкновение двух автомобилей. В считанные секунды оборвалась жизнь. Александр Янушкевич был пассажиром, за рулем – его супруга Ольга Борисовна Лебедева, которая с тяжелыми травмами доставлена в больницу.
Позднее медики утешали: все произошло так быстро, что он наверняка не почувствовал боли.
Трудно сказать, предвещал ли сейсмограф томской истории эту беду. Внезапная взрывная сила катастрофы мгновенно превратила в холодное пепелище место и дело, столько лет отстраивавшееся и согревавшееся внутренним огнем Янушкевича. Остается верить, что пройдет время, и близкие, ученики, единомышленники найдут в себе силы оправиться от потери. Утихнет боль, жуковедческий завод заработает в полную силу, а мы с неизменным любопытством будем ежесезонно возвращаться в Томск к дорогим сердцу людям. Александр Сергеевич, «Кот Васька», умел врачевать «болящий дух» и к случаю нередко повторял «жуковское»:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были…
Томский genius loci продолжает жить.